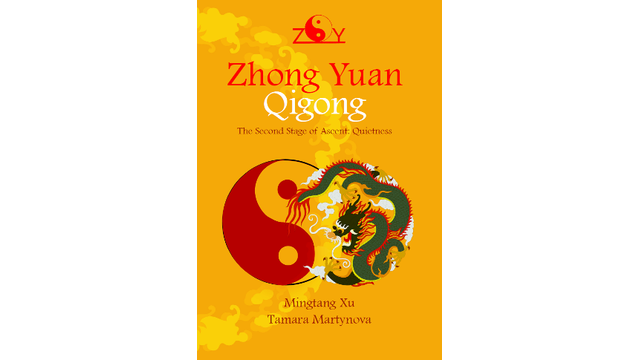C’est un samedi, a six heures
Du matin gue je suis mon.
(Скончался я в субботу,
в 6 часов утра).
Эмиль Золя.
I
Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратись к моей жене, сказал торжественно и тихо:
- Все кончено.
По этим словам я догадался, что я умер.
Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка продолжал еще дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.
Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь: она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попинал “для здоровья” березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.
Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.
Вошел мой брат - сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.
-
Полно, Зоя, перестань, - ведь слезами ты не поможешь, - говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном, - побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.
Он с трудом высвободил себя от ее объятий и усадил ее на диван. -
Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения… Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?
- Ax, Andre, ради бога, распоряжайтесь всем… Разве я могу о чем-нибудь думать?
Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена. - Это объявление ты отправишь в “Новое Время”, а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?
- Ваше сиятельство, - отвечал, нагибаясь, Семен, - за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкутся у подъезда. Уж мы их гнали, гнали, - нейдут да и только. Прикажете их сюда позвать?
- Нет, я выйду на лестницу.
- И брат громко прочел написанное им объявление:
“Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20-го февраля, в 8 часов вечера, после тяжкой и продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера”. - Больше ничего не надо, Зоя? - Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: “прискорбие”? Je ne puis pas souffrir се mot. Mettez (Я не переношу этого слова. Поставьте): с глубокой скорбью.
Брат поправил. - Я посылаю в “Новое Время”. Этого довольно.
- Да, конечно, довольно. Можно еще в “Journal de S. Petersbourg” (“Санкт-Петербургские ведомости”).
- Хорошо, я напишу по-французски.
- Все равно, там переведут.
Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стояли возле нее, не желая нарушать ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.
- Будьте спокойны, ваше сиятельство, - говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные, - у нас все припасено: сено, и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.
Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья - любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала. - Слушай, Настя, - сказал ей тихо Семен, - не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе; помолилась - и довольно.
- Да как же мне за него не молиться? - отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали. - Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.
Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробывать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: “Да, пошли”. После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.
Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.
- Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, - сказал он раздраженным шепотом, - здесь вам не место.
- Да что с вами, Савелий Петрович! - прошипела обиженная Юдишна. - Я ведь не красть собираюсь.
- Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены, - я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.
- Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу…
- Молиться можете, а до стола не прикасайтесь… Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. “Неужели я в летаргии?” - подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, т. е. что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.
В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме “на по бегушках”, вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.
“Ну, значит, это не летаргия, - соображал я, пока меня облекали в чистое белье, - но что же это такое?”
Доктор сказал: “все кончено”, обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем; я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решился съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены все домашние вышли, и только хозяин застоялся: перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь, и которые теперь давят его своей пустотой.
И тут в первый раз, в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек, - не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно…
II
Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывая мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижна стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздалавшимся в пустой зале, читал:
“Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси”.
“Отстави от мене раны Твоя, от крепости бо руки Твоея аз исчезох”.
Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые, пары, и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.
Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек родится с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого существования. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.
Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.
Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, как одна неизбежнее целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.
Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие - одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что “грядущие события бросают перед собой тень”. Если же люди иногда жалуются, что предчувствие, их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего- нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.
Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня “клонит к смерти”, так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались: казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь между тем не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник - monstre (Невообразимый, потрясающий), с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: “ведь это наш граф Шамбор”. Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 28-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку стольких ученых мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сего дня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы. Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне, как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы? Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.
III
Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.
Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья дерев - все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь… Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую avenue, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.
- Какой вздор! - воскликнула жена. - Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.
Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор La cour d’honneur (Для воздания почестей), посыпанный красным гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая го стиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной - какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева - поразил меня, как что-то слишком знакомое.
Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.
- Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, - сказал я, поймав этот взгляд, - я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.
- Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.
- Да, но я именно жил в этом замке… Вы верите в переселение душ?
- Как вам сказать… Жена моя верит, а я не очень… А, впрочем, все возможно.
- Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.
Граф ответил мне какой-то шутливо-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.
- Может быть, вы перестанете смеяться, - сказал я, делая неимоверные усилия памяти, - если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.
- Вы совершенно правы, вот она, налево.
- А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.
- Вы слишком любезны, называя эту массу воды (certe piece d’eau) озером. Мы просто увидим пруд.
- Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.
- В таком случае, позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.
Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив… Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда- то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы… Мы молча шли по берегу.
- Но позвольте, - сказал я, с недоумением смотря направо, - тут должен быть еще второй пруд, потом третий.
- Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.
- Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.
- При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.
- Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?
- Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня… мы спросим его, вернувшись домой.
В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким- то маньяком, которому не следует перечить.
Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.
Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.
- Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести…
- О да, принесите их, и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.
Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: les etangs (пруды).
- Je baisse pavilion devant le vaingueur (Я опускаю знамя перед победителем), - произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнея.
Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием, - словно случилось несчастье, которого я давно боялся.
Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная к мистицизму.
К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я - мы оба были так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.
После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.
Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным; я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.
Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.
Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.
IV
Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию “березовки” и вернулся окончательно ожесточенный.
“Кая польза в крови моей, всегда сходити ми во истление”, - начал заунывным голосом псаломщик.
Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием: лица же моего круга - даже самые близкие мне люди - относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелью, и он сделал ей строгое замечание.
- Да что же мне делать, Савелий Петрович? - оправдывалась Настасья. - Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.
- Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.
- За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? - вступился Семен. - Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.
- Знаю я этих шлюх законных, - проворчал Савелий и отошел в свой угол.
Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой- нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекосились от гнева и в глазах оказались слезы.
“На аспида и василиска наступиши, - читал псалом-шик, - и попереши льва и змия”.
Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:
- Вот вы этот аспид и есть.
- Кто это аспид? Ах, ты…
Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.
Марья Михайловна - тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя, в свою очередь, мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.
- Voyons, Zoe, mon enfant, - уговаривала ее графиня, - soye ferme. (Ну же, Зоя, дитя мое. Будьте стойкой). Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.
- Oui, ma tame, je serai ferme (Хорошо, тетя, я буду стойкой), - отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.
Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.
Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:
- Ну, что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?
- Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю и мог ли я думать…
- Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит. И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.
- Ну, вот, Иван Ефимьга, - сказал генерал, - еще у нас одним членом стало меньше.
- Да, с Нового года это уж четвертый.
- Как четвертый? Не может быть!
- Как же “не может быть”? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч…
- Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.
- Однако он все-таки возобновлял билет.
- Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч. Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни…
- Что делать! “Не весте бо ни дне, ни часа…”
- Да, это все отлично! Но весте, не весте, - это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.
Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.
- Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.
- Ну, и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: de mortis, de monibus…
- Вы хотите сказать: “De mortuis aut bene, aut ni-hil” (О мертвых или хорошо, или ничего)? Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: de monuis aut bene, aut male (О мертвых или хорошо, или плохо). Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй…
- Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш… По крайней мере о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек…
- К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея…
- Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?
- Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только вашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать.
Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников…
В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.
Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый, и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков, - маленькую радость при мысли, то у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь… известию ли кому-нибудь об этом долге, записан ли он в мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.
Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.
- Видите ли, князь, - начал, запинаясь, Звягин, - я был должен покойному…
Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.
- Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя служба…
Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали, глаза беспокойно бегали но зале. Тут в первый раз после смерти я пожалел о том, что не могу говорит??. Мне так хотелось сказать ему: “Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без этого денег довольно”.
Зала быстро наполнялась. Дамы входили большей частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня. как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали, у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания: решительно бросаются головой вниз в холодную воду.
К двум часам, собрался весь занятный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились, даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали: брату, и он ходил встречать их: на лестницу.
Я всегда с особенным умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня “жизнь бесконечная”; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой “бесконечной жизнью”, а именно находился в том месте, “иде же несть болезни, печали и воздыхания”.
Напротив того, земные, доходившие до меня воздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыданий, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.
Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: “Во блаженном успении…”, но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец, он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.
V
Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал - настойчиво, усиленно думал.
Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает - и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел, - это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется, и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.
Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые “проклятые вопросы”. Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существовании? По какому закону они происходят и к чему в конце концов приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?
И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: Ci - git tres haute et recommandable dame… (Здесь покоится высокородная дама…). Дальше идет тая, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю: Ci - git le coeur du mагguis… (Здесь покоится сердце маркиза…). Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: Zo… Zo… Я напрягаю память и к великой радости явственно слышу имя: Zo-robabel! Zorobabel! Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я - на дворе замка, в большой толпе народа. “A la chambre du rei! A la chambre du rei!..” (“В комнате короля! В комнате короля!”) - повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т. е. комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не мог. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. “Zorobabel! Zorobabel!”- кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается предо мною!
VI
Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице, и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез; вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настежь? В какое время был я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо, или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи?
Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно; умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завыла.
Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи… Но как ни напрягал я свою память, не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем, да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы.
VII
Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин про: мелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал когда-то… Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда- то, и она являлась мне во сне, как наказание и упрек.
Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?
Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, т. е. состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы, - и, наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.
VIII
О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования, мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: “Не в деньгах счастье” - и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятия об искусстве так же условны, как понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира: таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душной зале фуги Баха.
О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми… со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существовании и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свои быт, как напрягает он свой бедный ограниченный разум. И все его усилия пропадают даром, все изобретения - часто гениальные - не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме Земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа, - об этом он может догадываться, но наверное не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве, не трогателен этот костер по своей детской наивности?
О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дрязги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть, - но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!
О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки, и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челнок навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного се на и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.
О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести одно человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..
IX
И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос: это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного, утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.
- Слушай, Васютка, - раздался голос Софьи Францевны, - продерись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.
- Да как же я туда продерусь, тетенька? - отвечала Васютка. - Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.
- Ну, как-нибудь продерись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.
Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.
- Ну, что? - спросил, он, вбегая.
- Все благополучно, поздравляю, - произнесла торжественно Софья Францевна.
- Ну, слава тебе, господи, - сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.
- Мальчик или девочка? - спросил он уже из коридора.
- Мальчик, мальчик!
- Ну, слава тебе, господи, - повторил Семен и скрылся.
В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.
- Нашла тоже время, нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..
Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.
А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты.
Чрез несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.
Я вступал в новую жизнь…
1892
http://az.lib.ru/a/apuhtin_a_n/text_0050.shtml